- Публикатор: Антон Резниченко (Anton17)
- Текст: Анна Поваго
- Фото: Даша Седенкова
Бывает, сидя в любимом кафе или баре, мы смотрим на окружающих, видим завсегдатаев заведения, пытаемся угадать, чем они могут быть связаны, какой историей. Рано или поздно истории всплывают. Одна из таких описана в этом рассказе, случилась она в Москве в те времена, когда в барах еще можно было курить.
Я оставляю рюкзак дома. Он слишком тяжелый, чтобы таскать его за собой. Такой огромный мешок – несколько отделений и карманы по бокам. Иногда я думаю, что смогла бы собрать в него всю свою жизнь. Ее у меня не так уж много.
Я беру маленькую сумочку. Она дешевая и, скорее всего, уже к осени порвется. Интересно, я поставлю заплатки или куплю новую? Не знаю. Зависит от настроения. В сумочку помещается мой сегодняшний мир – мобильник, кошелек, блокнот с шариковой ручкой и пачка сигарет. Самое главное – пачка сигарет.
Я беру маленькую сумочку. Она дешевая и, скорее всего, уже к осени порвется. Интересно, я поставлю заплатки или куплю новую? Не знаю. Зависит от настроения. В сумочку помещается мой сегодняшний мир – мобильник, кошелек, блокнот с шариковой ручкой и пачка сигарет. Самое главное – пачка сигарет.
Остается немного места. Его можно потратить на небольшую книжку или ограничиться помадой и тушью. Но зачем мне тушь, если я накрашу ресницы дома? Лишнее. Тем более, я хотела взять книжку. Какую? Я уже давно ничего не читаю. Но сидеть за столиком придется долго и, возможно, в полном одиночестве. Я могу встретиться со скукой слишком рано. Это пугает.
Я стою перед зеркалом. Оно высокое – от пола до потолка или наоборот. На меня смотрит худая девица лет двадцати. Это из-за макияжа. Он заставляет забыть, что мне всего восемнадцать. Я не люблю помнить о возрасте. Помнить пока просто не о чем. Наверное, когда я была совсем крошечной, кто-то взял меня и начал тянуть, как тянут каплю расплавленного стекла, чтобы получилась длинная тонкая трубка. Меня тянули за лысую младенческую макушку куда-то вверх – все выше и выше.
У меня прямые темные волосы, почти прозрачные руки, тонкие белые ноги. Иногда отец шутит, что по моему телу его студенты могли бы изучать анатомию. Он врач, профессор. Я страшно обижаюсь на отца и пытаюсь краснеть, но ничего не выходит. Он не знает, что один из его студентов вполне преуспел в изучении меня и сдал экзамены на «отлично». Это было в прошлом году. Правда, я больше ни разу его не видела. Может быть, я оказалась для него слишком длинной, так что ему хотелось укоротить меня в своей жизни как можно сильнее?
У меня прямые темные волосы, почти прозрачные руки, тонкие белые ноги. Иногда отец шутит, что по моему телу его студенты могли бы изучать анатомию. Он врач, профессор. Я страшно обижаюсь на отца и пытаюсь краснеть, но ничего не выходит. Он не знает, что один из его студентов вполне преуспел в изучении меня и сдал экзамены на «отлично». Это было в прошлом году. Правда, я больше ни разу его не видела. Может быть, я оказалась для него слишком длинной, так что ему хотелось укоротить меня в своей жизни как можно сильнее?
У меня нет груди. Она, конечно, есть, но настолько маленькая, что можно просто не обращать на нее внимания. Если я смотрю в зеркало, значит, я смотрю на нее. Все еще надеюсь, что когда-нибудь увижу хоть что-то. И каждый раз меня ждет разочарование. Никто никогда не говорил, что это проблема. Но и не нужно. Я сама это знаю. Иногда я плачу по ночам, вспоминая маму и ее полный «третий».

Я больше похожа на отца. Говорят, я – копия его сестры, погибшей много лет назад. Кажется, она разбилась на машине вместе со своим женихом. Они ехали в ЗАГС подавать заявление. Когда отец вспоминает о ней, он шутит: «Умерли в один день! Романтика!». В этот момент мне хочется закричать: нет в этом никакой романтики, старый ты дурак! Но я молчу и опускаю глаза. Мне всегда хотелось быть похожей на маму. У меня есть счет к тем, кто создал мое тело таким, не спросив меня.
Мое лицо – белесый овал под темными волосами. Сейчас у меня большие глаза, потому что подведены черным и лиловым, брови, которым пришлось придавать форму все утро, прямой нос, гладкие щеки и маленькие аккуратные губы. Я намазала их темно-бордовой помадой. Милое личико, мордашка.
Но под краской нет ничего примечательного. Городу об этом знать необязательно, как необязательно моей матери знать про темно-бордовые губы. Если увидит, будет скандал. Она обзовет меня «малолетней шлюхой» и попытается ударить, но я опять увернусь и проскочу мимо нее к входной двери. Ее задержит отец, так что без проблем успею справиться с замком. Но зачем эти сложности? Все равно потом останется лишь выйти во двор, сесть на ближайшую лавку и заплакать. Плакать нельзя. Нужно успеть уйти, пока мать не вернулась домой.
А еще… очень хочется не вернуться, хотя бы сегодня ночью не возвращаться в этот дом, к ее голосу, к запаху пюре и тушеной капусты с кухни, к телевизору, вечно настроенному на канал с дурацкими сериалами, от которых ее припухшие глаза начинают блестеть. В этот момент она теряет всю свою красоту, все очарование, и я радуюсь, что похожа на сестру моего отца, пусть даже у нас с ней никогда не было и не будет такой груди, как у моей матери.
Крутили ею месяц, а, может быть, и не один. А глупая девочка думала, что все карты – у нее.
Я долго стою перед зеркалом. Время постепенно истончается, проливается в комнату, на меня, в окно, в город. Мать скоро вернется. Мне нужно ее опередить.
На мне короткая полосатая майка и шорты. У меня высокие гольфы и новые кеды. Когда я иду по улицам, вслед оборачиваются люди. Кто-то свистит, и мне даже приятно. Я пробегаю по освещенной солнцем улице, выхожу на площадь, бегу дальше. Кто-то говорил мне, что когда-то город заканчивался здесь. Кто это был? Не помню. Помню – смеялась. Город не мог здесь закончиться: здесь его центр.
Кеды отталкиваются от плитки и несут меня мимо магазинчиков, баров и маленьких кафе в глубокую арку в конце улицы. Я сворачиваю, поднимаюсь по лестнице, открываю дверь.
На мне короткая полосатая майка и шорты. У меня высокие гольфы и новые кеды. Когда я иду по улицам, вслед оборачиваются люди. Кто-то свистит, и мне даже приятно. Я пробегаю по освещенной солнцем улице, выхожу на площадь, бегу дальше. Кто-то говорил мне, что когда-то город заканчивался здесь. Кто это был? Не помню. Помню – смеялась. Город не мог здесь закончиться: здесь его центр.
Кеды отталкиваются от плитки и несут меня мимо магазинчиков, баров и маленьких кафе в глубокую арку в конце улицы. Я сворачиваю, поднимаюсь по лестнице, открываю дверь.
В маленькой кофейне тихо. Шесть вечера – постоянных посетителей еще нет. Столиков совсем немного — пять выстроились по дальней стене, два слева, еще два – справа от входа. Последние – широкие, с деревянными столешницами, с которых кто-то уже успел ободрать лак. Они стоят на витых ножках, оторванных у старых машинок «Зингер». Красиво, но немного грустно.
Я сажусь у окна, заказываю кофе и пирожное. Здесь варят самый отвратительный и одновременно восхитительный американо в городе – черный, густой, такой горький, что начинают слезиться глаза. Немного подумав, я прошу к нему стакан яблочного сока. Меня никто не ждет, я сама никого не хочу видеть. Но все-таки что-то внутри подсказывает: сегодня случится обыкновенное чудо. Просто случится и все. И я не вернусь домой на ночь, не услышу маминой ругани и не увижу тусклого отцовского лица. Он не сможет защитить меня от матери. Он боится ее. Всегда боялся.

Здесь играет глупая музыка. Но несколько месяцев назад хозяин поставил рядом со стойкой музыкальный аппарат. Теперь всего за десять рублей можно поставить свою песню, красивую, настоящую. У каждого есть такая – своя. И у меня была. Но она зазвучала в тот момент, когда мать впервые ударила меня по лицу и назвала шлюхой. Магия песни треснула и рассыпалась. Я возненавидела ее.
Девушку за барной стойкой зовут Таня. У нее пухлые щечки, и вся она похожа на фарфоровую куклу. Таня встречает всех в белой рубашке с отглаженным воротничком. Иногда мне интересно, что она думает о нас? Не хочется ли ей оторвать свои манжеты и присоединиться к орущей толпе в драных джинсах, заполняющих этот зал каждый вечер? Но я ни о чем ее не спрашиваю. Не скажет.
Девушку за барной стойкой зовут Таня. У нее пухлые щечки, и вся она похожа на фарфоровую куклу. Таня встречает всех в белой рубашке с отглаженным воротничком. Иногда мне интересно, что она думает о нас? Не хочется ли ей оторвать свои манжеты и присоединиться к орущей толпе в драных джинсах, заполняющих этот зал каждый вечер? Но я ни о чем ее не спрашиваю. Не скажет.
Я смотрю в окно. Арка впускает человека, а затем еще одного. Внутри появляется неприятный комок, отдающийся глухим приступом боли в центре груди. Он цепляется за горло и начинает тянуть связки вниз. Я не ждала их сегодня.
Они останавливаются в шаге от лестницы и поднимают головы. Я отодвигаюсь в тень, надеясь, что эти люди развернутся и уйдут. Но они что-то говорят друг другу, громко смеются и поднимаются наверх. Я зажмуриваюсь.
Одного из них зовут Женя. У него светлые волосы, зеленые глаза и странная, блуждающая улыбка. Он выше меня на голову, меня — длинной стеклянной трубки, обогнавшей почти всех своих ровесниц. Он носит камуфляжные штаны с большими карманами и ярко-оранжевую майку с надписями, которые мне не прочитать и не перевести. Сейчас у него на ногах сандалии, но чаще всего я видела его в высоких армейских ботинках. В следующем году он получит диплом и будет гордо называть себя юристом. Его отец мечтает, чтобы сын стал адвокатом, но, кажется, сам Женя воспринимает все это как игру. Приз в ней – корка, дающая право отделаться от отца.
У Жени есть маленькая квартирка за рекой. Несколько шагов от дома – и попадаешь сначала в дачный поселок, а потом и в сосновый бор. В его квартире почти нет мебели. Он спит в окружении цветных подушек на высоком матрасе, застеленном яркими пледами. По ночам подушки скатываются и встречают рассвет уже на полу. В углу комнаты стоит стол, где места хватает разве что для ноутбука. Зато рядом на красивой подставке блестит гитара, а за ней – маленький комбик. Женька часто рассказывает, как его ненавидят соседи.
Над столом висит пара полок. На них – куча непонятного хлама, какие-то диски, книжки. В комнате пахнет дешевыми благовониями, смешивающими запах сандала и пачули с мыльной вонью. Как-то вечером я приехала в эту маленькую каморку и осталась на пару недель. Мать искала меня, обрывая телефоны знакомых, и хотела заявить в полицию. Наконец, я сама позвонила ей. Мы с ней тогда здорово поссорились.
Женька был внимательным и чутким. Только потом стало ясно, что для него наши две недели были такой же игрой, как и все остальное. Для него все в этом мире – игра, в которой он всегда выходит победителем, потому что знает: он перестанет играть, как только ему надоест. Так он говорил об отношениях со своим отцом, об университете и собственной жизни: как только все заполнит скука, он тут же закончит раунд. Я спрашивала: что будет, если после этого новый раунд не начнется? Он смотрел на меня, ухмылялся и отвечал одно и то же: тогда просто ничего не будет.
Одного из них зовут Женя. У него светлые волосы, зеленые глаза и странная, блуждающая улыбка. Он выше меня на голову, меня — длинной стеклянной трубки, обогнавшей почти всех своих ровесниц. Он носит камуфляжные штаны с большими карманами и ярко-оранжевую майку с надписями, которые мне не прочитать и не перевести. Сейчас у него на ногах сандалии, но чаще всего я видела его в высоких армейских ботинках. В следующем году он получит диплом и будет гордо называть себя юристом. Его отец мечтает, чтобы сын стал адвокатом, но, кажется, сам Женя воспринимает все это как игру. Приз в ней – корка, дающая право отделаться от отца.
У Жени есть маленькая квартирка за рекой. Несколько шагов от дома – и попадаешь сначала в дачный поселок, а потом и в сосновый бор. В его квартире почти нет мебели. Он спит в окружении цветных подушек на высоком матрасе, застеленном яркими пледами. По ночам подушки скатываются и встречают рассвет уже на полу. В углу комнаты стоит стол, где места хватает разве что для ноутбука. Зато рядом на красивой подставке блестит гитара, а за ней – маленький комбик. Женька часто рассказывает, как его ненавидят соседи.
Над столом висит пара полок. На них – куча непонятного хлама, какие-то диски, книжки. В комнате пахнет дешевыми благовониями, смешивающими запах сандала и пачули с мыльной вонью. Как-то вечером я приехала в эту маленькую каморку и осталась на пару недель. Мать искала меня, обрывая телефоны знакомых, и хотела заявить в полицию. Наконец, я сама позвонила ей. Мы с ней тогда здорово поссорились.
Женька был внимательным и чутким. Только потом стало ясно, что для него наши две недели были такой же игрой, как и все остальное. Для него все в этом мире – игра, в которой он всегда выходит победителем, потому что знает: он перестанет играть, как только ему надоест. Так он говорил об отношениях со своим отцом, об университете и собственной жизни: как только все заполнит скука, он тут же закончит раунд. Я спрашивала: что будет, если после этого новый раунд не начнется? Он смотрел на меня, ухмылялся и отвечал одно и то же: тогда просто ничего не будет.
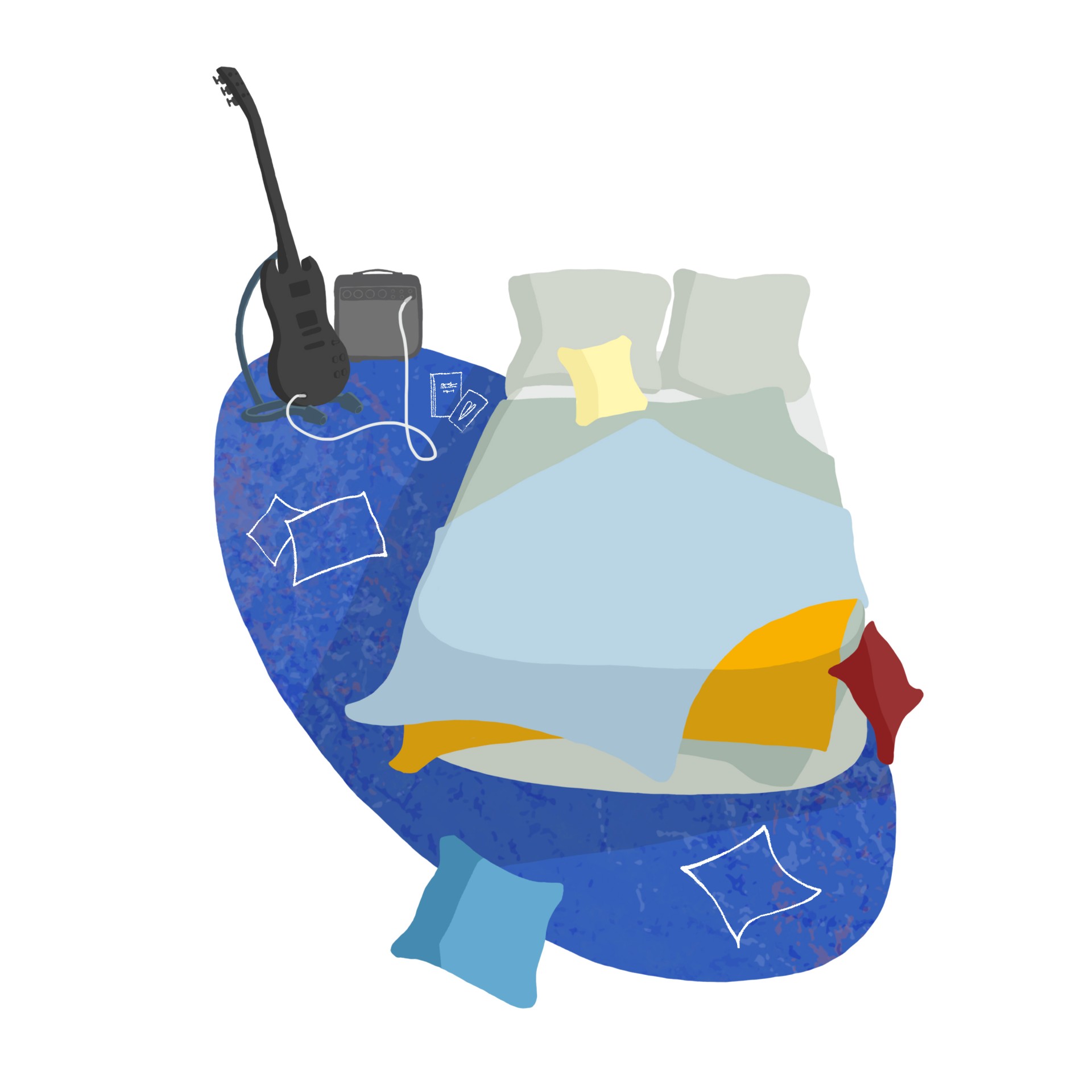
Он целовал меня, наваливался всем телом, прижимал к подушкам. Его рука начинала скользить по моему телу, сжимая маленькую грудь. Его пальцы находили меня, проникали в меня, заставляли изгибаться, забываться и учащенно дышать. Потом все слова стирались, и, казалось, ночью переставал существовать сам алфавит, оставив на память только одну единственную букву, единственный долгий и протяжный звук.
Тогда он был нежен со мной, и я его не боялась. Через две недели я вернулась домой. Через три мне было уже некого навещать в маленькой квартирке в двух шагах от леса. Там появилась другая девица, моя полная противоположность – крупная, рыжеволосая, громкая. Он провел с ней около года и провел бы еще, но в один прекрасный день рыжая собрала вещи и исчезла. Говорят, нашла кого-то постарше, с другими правилами игр. Говорят, Женя пил три недели, и никто не мог его остановить. Впрочем, сейчас он смеялся, а значит, игра пошла заново и ее условия его полностью устраивают.
Они не дали ей выставить их или позвать на помощь. Они ушли под утро, веселые и довольные.
Я думаю быстрее, чем они поднимаются. В памяти складывается и яркими стекляшками рассыпается целая история, а они не преодолели и половины лестницы. Я больше не вижу Женю, но могу рассмотреть второго. Его зовут Виктор. Никому никогда не приходило в голову смягчить это имя.
Может быть, его мать позволяет себе дома иногда ласково назвать его Витей или, того хуже, Витенькой, но я никогда не видела его матери и не знаю ее имени. Среди наших общих знакомых такое обращение к нему — что-то немыслимое.
У Виктора острое, болезненно гордое лицо и обиженные глаза. В первую минуту он смотрит на тебя так, будто нашел истинного виновника всего зла в его безрадостной жизни. Вполне вероятно, что через месяц в его взгляде можно будет прочесть что-то вроде: «Ты – самое мерзкое существо во вселенной». В любом случае это будет ненависть, возможно, приправленная отвращением.
Из-за этого не сразу замечаешь: у него красивые глаза. Они серые, но совсем без голубого оттенка. Иногда кажется, что Виктор слеп, но это обманчиво. Он видит намного лучше, чем стоило бы. Когда-то собственная бабка назвала его коршуном. Слово со временем изменило свой смысл и стало короче – гриф.
У Виктора острое, болезненно гордое лицо и обиженные глаза. В первую минуту он смотрит на тебя так, будто нашел истинного виновника всего зла в его безрадостной жизни. Вполне вероятно, что через месяц в его взгляде можно будет прочесть что-то вроде: «Ты – самое мерзкое существо во вселенной». В любом случае это будет ненависть, возможно, приправленная отвращением.
Из-за этого не сразу замечаешь: у него красивые глаза. Они серые, но совсем без голубого оттенка. Иногда кажется, что Виктор слеп, но это обманчиво. Он видит намного лучше, чем стоило бы. Когда-то собственная бабка назвала его коршуном. Слово со временем изменило свой смысл и стало короче – гриф.
Грифа не любил никто. Тем не менее, его терпели, к нему даже прислушивались.
Он жил в квартире той самой бабки, что подарила ему второе имя. Год назад она умерла. Его окна выходили на набережную, и гриф мог часами сидеть на подоконнике, курить трубку и смотреть на воду. Он ощущал себя аристократом, городским герцогом.
Гриф – самое самовлюбленное и невыносимое существо из всех, кого я знаю. Его самомнение устремлено в бесконечность. Он – бог для самого себя. Если ты – с ним, лучше сама возводи алтарь и сразу начинай приносить жертвы. Идеально подойдут – личное время, уверенность в себе, жизнерадостность и самоуважение. Думаю, он питается людьми – сначала превращает их в падаль, а потом сжирает.
Каждый раз, просматривая криминальную хронику, я жду, когда там заговорят о Викторе. Это должна быть новость из блока о серийных убийцах или маньяках-каннибалах. Для него – это самая подходящая компания. Но пока телевизионщики молчат. Пару раз я хотела написать им анонимку, но почему-то не решилась.
Гриф – самое самовлюбленное и невыносимое существо из всех, кого я знаю. Его самомнение устремлено в бесконечность. Он – бог для самого себя. Если ты – с ним, лучше сама возводи алтарь и сразу начинай приносить жертвы. Идеально подойдут – личное время, уверенность в себе, жизнерадостность и самоуважение. Думаю, он питается людьми – сначала превращает их в падаль, а потом сжирает.
Каждый раз, просматривая криминальную хронику, я жду, когда там заговорят о Викторе. Это должна быть новость из блока о серийных убийцах или маньяках-каннибалах. Для него – это самая подходящая компания. Но пока телевизионщики молчат. Пару раз я хотела написать им анонимку, но почему-то не решилась.
У него было множество книг на разных языках, коллекция дисков, домашний кинотеатр, какая-то навороченная техника, ворох черных шмоток и маленький член. Настолько маленький, что я практически ничего не чувствовала. Впрочем, он держал не этим. Наверное, если бы он сам не выставил меня из дома после очередной идиотской ссоры, я до сих пор сидела бы на его темно-сером диване, никак не клеившемся к светлой кухне, заворачивалась в черный плед и тихо плакала, пока он не слышит. И все равно бы оставалась. Я до сих пор не понимаю, почему.
Сколько лет Виктору? Он старше Жени, но я совсем не помню цифры. Двадцать пять? Двадцать семь? Нет, пока не тридцать, хотя этого нельзя утверждать. Я боюсь, что как-нибудь он пройдет мимо и просто скажет: вернись. Доводы здравого смысла вряд ли меня остановят.
Сколько лет Виктору? Он старше Жени, но я совсем не помню цифры. Двадцать пять? Двадцать семь? Нет, пока не тридцать, хотя этого нельзя утверждать. Я боюсь, что как-нибудь он пройдет мимо и просто скажет: вернись. Доводы здравого смысла вряд ли меня остановят.
Они заходят в кофейню. Я чувствую их спиной. Они стоят на пороге и осматриваются. Вот кто-то из них замечает меня. Виктор – от его взгляда по позвоночнику бежит холодок.
– Привет, – это Женя, мальчик-игрок. Он никогда никого не вычеркивает из своей жизни. Наверное, оставляет пространство для нового хода.
Я оборачиваюсь, чтобы поздороваться в ответ. Виктор кивает. Его глаза не выражают ничего. Это самое худшее.
Они проходят к дальней стене и садятся за столик напротив, садятся так, что я оказываюсь у них на виду – можно рассматривать, сколько душе угодно. Хочется встать и уйти, но я помню про чудо, которое обязано свершиться, и просто заказываю себе кружку пива. Ее ставят на стол, и под ней тут же образуется небольшая лужица.
Пить одной немного неудобно, но мне нужно расслабиться. Я прислушиваюсь. Женя что-то говорит, Гриф тихо отвечает, а потом они смеются. Мне кажется, они смеются надо мной. Мысль становятся навязчивой. Я закуриваю и стараюсь думать о чем-то другом, но думать не о чем, так что приходится отвернуться и смотреть в окно на лоскуток плитки рядом с чертовой аркой.
– Привет, – это Женя, мальчик-игрок. Он никогда никого не вычеркивает из своей жизни. Наверное, оставляет пространство для нового хода.
Я оборачиваюсь, чтобы поздороваться в ответ. Виктор кивает. Его глаза не выражают ничего. Это самое худшее.
Они проходят к дальней стене и садятся за столик напротив, садятся так, что я оказываюсь у них на виду – можно рассматривать, сколько душе угодно. Хочется встать и уйти, но я помню про чудо, которое обязано свершиться, и просто заказываю себе кружку пива. Ее ставят на стол, и под ней тут же образуется небольшая лужица.
Пить одной немного неудобно, но мне нужно расслабиться. Я прислушиваюсь. Женя что-то говорит, Гриф тихо отвечает, а потом они смеются. Мне кажется, они смеются надо мной. Мысль становятся навязчивой. Я закуриваю и стараюсь думать о чем-то другом, но думать не о чем, так что приходится отвернуться и смотреть в окно на лоскуток плитки рядом с чертовой аркой.

Я не знаю, сколько проходит времени. Никогда не засекала скорость, с которой выпиваю половину пивной кружки. Возможно, стоит как-нибудь попробовать. Здесь – своя жизнь, а значит, у нее должны быть собственные часы. Почему бы не пивные? Вечером они намного точнее кофейных.
В зал постоянно заходят люди. Кто-то рассаживается за столиками, кто-то подходит к стойке, что-то спрашивает у Тани и тут же выходит. В кофейне появляются друзья хозяина и усаживаются за столик рядом с моим. Для них его всегда оставляют свободным.
Музыка, гул разговоров и смех становятся громче. Кто-то постоянно проходит мимо и здоровается со мной. Я машинально киваю, улыбаюсь, но не запоминаю лиц. У дальней стены большая компания сдвигает столы. Кто-то из них посматривает на меня с явным неодобрением: я одна занимаю большой стол, где им всем хватило бы места.
Я никогда не была у него дома, потому мне не представить, куда он поставил свои книги, какая фирма создавала его гитару и на каком диване он спит по ночам. Он никого не зовет в гости и не устраивает больших домашних попоек. По крайней мере, таких сборищ не существует для нас. Может быть, есть исключения? Не знаю. Мы практически не общаемся.
Игорь старше всех, кто по вечерам сидит у дальней стены. Ему тридцать четыре, но я предпочитаю думать, что его лицо намного моложе. У него светлые волосы, голубые глаза и мелкие зубы. Это знают все, потому что ему нравится смеяться. Его смех горчит, а шутки приближаются к той грани, за которой надо без разговоров бить.
Интрижка, казавшаяся ей веселой и легкой, отнимала время, нервы и силы. Она думала, что ей нужно выбрать. Но все выборы были давно сделаны.
Игорь работает в маленькой мастерской по производству какой-то мелочи, может выпить до пяти чашек местного кофе за раз и старается напиваться где угодно, только не здесь. Говорят, он не пропускает ни одной юбки, но никто ни разу не видел, как женщина сидит у него на коленях. Кто-то рассказывал, что он был женат, но давно развелся из-за какой-то глупости. По всеобщему убеждению его бывшая жена не любила музыку.
Он проходит мимо, здоровается и целует меня в щеку. По местным обычаям это всего лишь приветствие. Мне хочется, чтобы он сел за мой столик, но он улыбается, идет дальше. Садится к ним – к Жене и Грифу. Я жадно глотаю пиво и снова закуриваю.
Теперь они смотрят на меня, а я – на них. Женя подмигивает мне и смеется. Уже нет ни малейших сомнений, тема разговора – я. Хочется заказать еще одну кружку, но вторая еще не кончилась, а деньги почти на исходе. Я отворачиваюсь и слышу громкий смех. Это они. Я знаю, что это они. Они сидят там и говорят обо мне.
Я спала с двумя из них и, возможно, они узнали об этом только сейчас, а, может быть, знали изначально. Они говорят про мои длинные ноги, про прозрачную кожу, через которую просвечивает теткина анатомия. Они обязательно будут говорить о моей груди и о том звуке, что по ночам остается на память об алфавите. Рано или поздно кто-то из них вспомнит, как я двигалась, когда сидела на нем верхом, как впивалась ногтями в спину, кусала за плечо, чтобы не кричать и не будить соседей.
Теперь они смотрят на меня, а я – на них. Женя подмигивает мне и смеется. Уже нет ни малейших сомнений, тема разговора – я. Хочется заказать еще одну кружку, но вторая еще не кончилась, а деньги почти на исходе. Я отворачиваюсь и слышу громкий смех. Это они. Я знаю, что это они. Они сидят там и говорят обо мне.
Я спала с двумя из них и, возможно, они узнали об этом только сейчас, а, может быть, знали изначально. Они говорят про мои длинные ноги, про прозрачную кожу, через которую просвечивает теткина анатомия. Они обязательно будут говорить о моей груди и о том звуке, что по ночам остается на память об алфавите. Рано или поздно кто-то из них вспомнит, как я двигалась, когда сидела на нем верхом, как впивалась ногтями в спину, кусала за плечо, чтобы не кричать и не будить соседей.
Вспоминаю, как они хватали меня за руки, вспоминаю, кто из них умел заниматься любовью, а кто, казалось, пытался избить или разорвать меня пополам.
Я делаю еще один глоток.
Думая о них, я забываю про окно и не вижу, как сквозь арку проходит женщина. Она еще выше меня. Светловолосая, полная. Ольга. Кто-то говорит, что она любит девочек, кто-то говорит, что это чушь. Я слышала, что у Ольги было множество любовников, но ни один из них не задерживался в ее постели дольше недели. Есть те, кто верит, что она – ведьма и может перевернуть город вверх дном просто ради развлечения. Я не верю. Ведьм и колдуний не существует, а Ольга напоминает женщину, выбравшую одиночество. Я часто слышу, как она повторяет: «Как же вы меня достали!».
У нее серые глаза, маленький рот и огромная задница. Она ходит в свободных черных балахонах, подводит черным глаза, а губы красит бледной помадой. Когда она пьяна, ее язык понимают лишь избранные. Или делают вид.
Ольга присоединяется к троице, уже порядком испортившей мне вечер. Почему я еще не ушла?
Она садится спиной ко мне, и теперь я практически не вижу, что там происходит. Могу только вслушиваться, но в общем гомоне ничего не слышно. Я смотрю на свои ногти – бордовый лак облупился на большом и указательном пальце. Утром я этого не заметила.
У нее серые глаза, маленький рот и огромная задница. Она ходит в свободных черных балахонах, подводит черным глаза, а губы красит бледной помадой. Когда она пьяна, ее язык понимают лишь избранные. Или делают вид.
Ольга присоединяется к троице, уже порядком испортившей мне вечер. Почему я еще не ушла?
Она садится спиной ко мне, и теперь я практически не вижу, что там происходит. Могу только вслушиваться, но в общем гомоне ничего не слышно. Я смотрю на свои ногти – бордовый лак облупился на большом и указательном пальце. Утром я этого не заметила.

Пиво туманит голову, проникает в мышцы. Я чувствую, что мне нужно кого-то обнять. Сейчас хорошо было бы прижаться к чьему-то телу, выдохнуть, почувствовать тепло. От этих мыслей на глаза наворачиваются слезы, и я начинаю самой себе напоминать тупую размазанную по стулу курицу, одну из тех, что иногда попадают сюда на вечер или на два. Обычно их тут же снимают, а наутро становится ясно: никакая это не сказка. Розовые очки бьются стеклами вовнутрь. Но я не похожа на этих девочек! Не-по-хо-жа! Или?
Я прислушиваюсь:
– Вы что, уроды? Она же ребенок!
Это про меня. Это точно про меня. Никакой ошибки быть не может.
– Какой график? Какой еще график, сволочи?
Я превращаюсь в слух, в эхолот, пробивающийся сквозь толщу посторонних звуков, сквозь сигаретный дым, сквозь запахи людей, сквозь их сальные шутки и мерзкие смешки. Я хочу услышать, что ей ответят. Я хочу понять, почему она закричала. Я хочу… Чего? Подтвердить свои мысли или опровергнуть? Неважно.
– Пошутили? Серьезно?
Грохот. Это ее кружка бьется о столешницу, а вслед за ней все кофейные чашки, маленькие ложки, пепельница, мобильные телефоны – все грохочет и танцует на столе. Ольга резко встает. У нее раскрасневшееся некрасивое лицо, она сжимает и разжимает кулаки. Она в бешенстве.
– Знаете, что? Пошли вы все! Как же вы меня достали!
Черный вихрь несется к выходу, на мгновение замирает у моего стола, и я могу увидеть красные прожилки лопнувших в ее глазах сосудов. Красный так не подходит к светло-серому. Она смотрит на меня всего секунду, но с такой жалостью, что мне хочется вскочить и дать ей пощечину. Но я сижу на месте, делая вид, что ничего не замечаю и не понимаю. Ольга вылетает к лестнице. Громко хлопает входная дверь. На секунду в баре становится тихо. Ровно на одну секунду.
– Вы что, уроды? Она же ребенок!
Это про меня. Это точно про меня. Никакой ошибки быть не может.
– Какой график? Какой еще график, сволочи?
Я превращаюсь в слух, в эхолот, пробивающийся сквозь толщу посторонних звуков, сквозь сигаретный дым, сквозь запахи людей, сквозь их сальные шутки и мерзкие смешки. Я хочу услышать, что ей ответят. Я хочу понять, почему она закричала. Я хочу… Чего? Подтвердить свои мысли или опровергнуть? Неважно.
– Пошутили? Серьезно?
Грохот. Это ее кружка бьется о столешницу, а вслед за ней все кофейные чашки, маленькие ложки, пепельница, мобильные телефоны – все грохочет и танцует на столе. Ольга резко встает. У нее раскрасневшееся некрасивое лицо, она сжимает и разжимает кулаки. Она в бешенстве.
– Знаете, что? Пошли вы все! Как же вы меня достали!
Черный вихрь несется к выходу, на мгновение замирает у моего стола, и я могу увидеть красные прожилки лопнувших в ее глазах сосудов. Красный так не подходит к светло-серому. Она смотрит на меня всего секунду, но с такой жалостью, что мне хочется вскочить и дать ей пощечину. Но я сижу на месте, делая вид, что ничего не замечаю и не понимаю. Ольга вылетает к лестнице. Громко хлопает входная дверь. На секунду в баре становится тихо. Ровно на одну секунду.
График? Я знаю это слово. Как-то Гриф рассказывал мне, что они с приятелями составляли расписание, центром которого была какая-то глупая девочка лет шестнадцати. Они распределили дни: по понедельникам и четвергам с ней был Гриф, вторник и пятница достались кому-то из его дружков. Еще одному была отведена среда, потому что девица не очень-то ему нравилась. Судьба субботы решалась простым подбрасыванием монетки или жребием на зубочистках – кто вытянет короткую, тот и молодец. Воскресенье было их днем. Они собирались вместе, обменивались впечатлениями и придумывали новые способы удивить свою «подопечную». Так они ее называли. Они крутили ею месяц, а, может быть, и не один. А глупая девочка думала, что все карты – у нее.
Когда Гриф рассказывал мне эту историю, он смеялся, смаковал подробности, расписывал все с какой-то садистской дотошностью, а некоторые идеи предлагал провернуть со мной. Хотелось выть, выцарапать ему глаза за то, что он заставляет меня все это слушать. Я знала, каким будет конец этой истории. Однажды игра им надоела. К тому моменту девочка совсем запуталась. Интрижка, казавшаяся ей веселой и легкой, отнимала время, нервы и силы. Она думала, что ей нужно выбрать. Но все выборы были давно сделаны.
Как-то в субботу они не стали подбрасывать монетку, а пришли к ней втроем. Гриф говорил, когда она открыла дверь, ее лицо было настолько испуганным, что вряд ли получится его забыть. Они не дали ей выставить их или позвать на помощь. Они ушли под утро, веселые и довольные. Тогда я выдавила из себя всего один вопрос: что стало с ней? Но Гриф не знал ответа. Его это не интересовало.

Теперь расходным материалом он решил сделать меня. Повторно.
Мне нужно уйти. Знаю, что нужно. Наплевать, что вечер обошелся со мной по-скотски. Наплевать, что я вернусь домой и выслушаю от матери все, чего не хочу слышать. Все это не имеет значения. Мне нужно просто встать и уйти. Но я не могу. Я будто врастаю в этот стул и этот стол, мои корни цепляются за ножки от старой машинки «Зингер», путаются и увязают в ажурной ковке – не вытащить. Я ничего не могу сделать. Все, что остается – допивать пиво, курить и ждать, когда какая-то сила заберет меня отсюда.
Мимо проходит Гриф. Он наклоняется к моему лицу и целует меня в щеку. Я дергаюсь. Это самое отвратительное чувство на земле. Он улыбается.
Он составил график. Он поставил меня в маленькие ячейки на белой бумаге и точно пригласил в игру кого-то еще. Для него – это игра. Для еще одного человека, сидящего за столом напротив, вся жизнь – игра. Они просто договорились, что сыграют в меня, как играют старики в домино. Они точно выиграют, а меня можно будет просто убрать в футляр и забыть.
Вечер сыплется, превращается в порошок и летит мне под ноги. Кофейня смазывается и уходит куда-то вниз. Я не понимаю, кто я и где. Я думаю об Ольге и ненавижу ее. Ненавижу за то, что она знает обо всем. Мне хочется исчезнуть, но корни никак не могут выпутаться из старой машинки, старой машинки «Зингер».
Я вижу рядом с собой Игоря. Он смотрит на меня внимательно, и в его взгляде – такое сочувствие, такое тепло. Вот оно. Вот, чего бы я сейчас по-настоящему хотела. Игорь мог бы забрать меня отсюда. Мы пошли бы вдоль соседнего сквера к набережной, ходили бы у воды и разговаривали много и долго. Игорь ни за что не обидел бы меня. Он старше их всех, ему уже тридцать четыре. Он прекрасно понимает, насколько все это мерзко и страшно. Он смог бы… Смог бы успокоить меня, пожалеть, позволить мне отдохнуть.
Я смотрю на него, улыбаюсь, тянусь за очередной сигаретой.
– Может, покурим на улице? Здесь душно. Мне кажется, тебе было бы неплохо подышать. У тебя уже глаза покраснели от дыма.
Я киваю. Я согласна на что угодно, лишь бы уйти с ним и не возвращаться. Вставая из-за стола, я замечаю, что на нас смотрит Женя. Он машет мне рукой и почему-то подмигивает. Он улыбается слишком блуждающей улыбкой.
Мне нужно уйти. Знаю, что нужно. Наплевать, что вечер обошелся со мной по-скотски. Наплевать, что я вернусь домой и выслушаю от матери все, чего не хочу слышать. Все это не имеет значения. Мне нужно просто встать и уйти. Но я не могу. Я будто врастаю в этот стул и этот стол, мои корни цепляются за ножки от старой машинки «Зингер», путаются и увязают в ажурной ковке – не вытащить. Я ничего не могу сделать. Все, что остается – допивать пиво, курить и ждать, когда какая-то сила заберет меня отсюда.
Мимо проходит Гриф. Он наклоняется к моему лицу и целует меня в щеку. Я дергаюсь. Это самое отвратительное чувство на земле. Он улыбается.
Он составил график. Он поставил меня в маленькие ячейки на белой бумаге и точно пригласил в игру кого-то еще. Для него – это игра. Для еще одного человека, сидящего за столом напротив, вся жизнь – игра. Они просто договорились, что сыграют в меня, как играют старики в домино. Они точно выиграют, а меня можно будет просто убрать в футляр и забыть.
Вечер сыплется, превращается в порошок и летит мне под ноги. Кофейня смазывается и уходит куда-то вниз. Я не понимаю, кто я и где. Я думаю об Ольге и ненавижу ее. Ненавижу за то, что она знает обо всем. Мне хочется исчезнуть, но корни никак не могут выпутаться из старой машинки, старой машинки «Зингер».
Я вижу рядом с собой Игоря. Он смотрит на меня внимательно, и в его взгляде – такое сочувствие, такое тепло. Вот оно. Вот, чего бы я сейчас по-настоящему хотела. Игорь мог бы забрать меня отсюда. Мы пошли бы вдоль соседнего сквера к набережной, ходили бы у воды и разговаривали много и долго. Игорь ни за что не обидел бы меня. Он старше их всех, ему уже тридцать четыре. Он прекрасно понимает, насколько все это мерзко и страшно. Он смог бы… Смог бы успокоить меня, пожалеть, позволить мне отдохнуть.
Я смотрю на него, улыбаюсь, тянусь за очередной сигаретой.
– Может, покурим на улице? Здесь душно. Мне кажется, тебе было бы неплохо подышать. У тебя уже глаза покраснели от дыма.
Я киваю. Я согласна на что угодно, лишь бы уйти с ним и не возвращаться. Вставая из-за стола, я замечаю, что на нас смотрит Женя. Он машет мне рукой и почему-то подмигивает. Он улыбается слишком блуждающей улыбкой.
Комментарии:
Вы должны Войти или Зарегистрироваться чтобы оставлять комментарии...