Интервью
Клеймо
Директор центра «Сова» Александр Верховский о том, что нужно сделать, чтобы стать иностранным агентом в России
14.04.2017
- Публикатор: Ольга Тимофеева (reflection)
- Текст: Ольга Тимофеева
- Фото: Слава Замыслов (zamyslov)
Это они заговорили об опасности радикального национализма в середине 2000-х, когда преступления на почве национальной ненависти совершались все чаще, а правоохранительные органы наказывали скинхедов «за хулиганство». Это они добивались того, чтобы за расистскими преступлениями следовали более суровые наказания, но не стали молчать, когда тюремные сроки начали давать за репост в интернете. И это они с 2009-го получали президентские гранты на изучение ультраправых, но в конце концов получили статус иностранного агента
– Направление нашей деятельности не меняется уже много лет, – говорит директор центра Александр Верховский. – Это радикальный национализм, насильственные преступления по мотиву ненависти, противодействие всему этому в правовом плане. Свобода совести, светскость, религиозность. Ну и еще, к сожалению, за последнее должно было десятилетие очень расцвела тема злоупотребления со стороны властей антиэкстремистским законодательством. И это как раз то законодательство, которое бы использоваться во благо, а оно не всегда так используется.
По первой профессии Александр Верховский программист, он учился на факультете прикладной математики, но проработал по специальности недолго.
– Когда мы делали в 1989 году «Панораму», она была такой самиздатской газетой, печаталась на каком-то ксероксе, но была довольно заметна. Она писала не обо всем на свете, а именно о том, как устроены современные политические организации: как они живут, ссорятся, мирятся, объединяются, разделяются. И все это так хорошо пошло, что в какой-то момент я завязал со своим программированием. У меня нет ни политологического, ни юридического образования, но все это пишется и дошло до того, что я недавно выпустил книжку уже совсем правого характера про сравнительный анализ законодательства стран ОБСЕ в сфере преступлений ненависти.
Значительную часть кабинета директора центра Александра Верховского занимает шкаф, заполненный толстыми справочниками и изданиями собственных исследований центра. На каждой полке перед книгами стоят фигурки сов, их здесь коллекционируют.
– В «Панораме» с середины 90-х я занимался радикальным национализмом и прочими радикальными организациями. Мы выпускали, вон они стоят, толстенные справочники. На эту тему есть самая толстая книга, 1996-й год.
– В «Панораме» с середины 90-х я занимался радикальным национализмом и прочими радикальными организациями. Мы выпускали, вон они стоят, толстенные справочники. На эту тему есть самая толстая книга, 1996-й год.
Он поднимается, подходит к книжному шкафу и выуживает оттуда фолиант под названием «Политический экстремизм в России».
– Сейчас бы я так не рискнул книгу назвать.
– Не рискнули бы почему?
– Из-за нового законодательства. Сейчас кого-то назовешь экстремистом – все равно что донос написать. А тогда это был политологический термин. Он не предполагал уголовных последствий. Это толстый справочник, о том, какие радикальные люди и группы существуют у нас в стране. На тот момент, естественно.
Националисты
– Радикальные националистические группы, в каком-то смысле, были всегда. Но в советское время они, естественно, не были легальными. Поэтому, как только стало можно что-то делать легально, они тут же показались на свет. Люди, мало-мальски интересующиеся политикой, не могли не знать об РНЕ, поскольку его было везде видно. Но было множество организаций помельче.
– Радикальные националистические группы, в каком-то смысле, были всегда. Но в советское время они, естественно, не были легальными. Поэтому, как только стало можно что-то делать легально, они тут же показались на свет. Люди, мало-мальски интересующиеся политикой, не могли не знать об РНЕ, поскольку его было везде видно. Но было множество организаций помельче.
– Опасно ли заниматься такими исследованиями?
– Сперва совершенно так не казалось. Государство к нам точно не имело никаких претензий.
– А исследуемые группы?
– Исследуемые товарищи – да. Сначала у меня был скорее положительный опыт. В панорамские годы мы много писали о разных ультраправых, и они были рады тому, что о них пишут. Они могли не соглашаться, спорить, обвинять нас во всех смертных грехах, но воспринимали как неприятных, но полезных историков. Кто-то же должен писать их историю. Мне казалось, что это нормальный способ сосуществования. Но в 2000-е сменилось поколение. Националисты, которых мы знали в 1990-е, понемногу начинали сходить со сцены и заменяться бойцами с совершенно скинхедским бэкграундом. Им было совершенно не нужно, чтобы про них кто-то что-то писал. Их деятельность была намного более криминальной, чем у предшественников. И в какой-то момент начались угрозы. Ко мне домой регулярно пытались попасть какие-то молодые люди. Полиция здесь не очень могла помочь, они же не могут дежурить под дверью. А уголовное дело, которое было даже заведено, никуда не пришло. Как всегда в таких случаях бывает.
– Исследуемые товарищи – да. Сначала у меня был скорее положительный опыт. В панорамские годы мы много писали о разных ультраправых, и они были рады тому, что о них пишут. Они могли не соглашаться, спорить, обвинять нас во всех смертных грехах, но воспринимали как неприятных, но полезных историков. Кто-то же должен писать их историю. Мне казалось, что это нормальный способ сосуществования. Но в 2000-е сменилось поколение. Националисты, которых мы знали в 1990-е, понемногу начинали сходить со сцены и заменяться бойцами с совершенно скинхедским бэкграундом. Им было совершенно не нужно, чтобы про них кто-то что-то писал. Их деятельность была намного более криминальной, чем у предшественников. И в какой-то момент начались угрозы. Ко мне домой регулярно пытались попасть какие-то молодые люди. Полиция здесь не очень могла помочь, они же не могут дежурить под дверью. А уголовное дело, которое было даже заведено, никуда не пришло. Как всегда в таких случаях бывает.

– Кто были эти молодые люди?
– Была такая группа «Северное братство». Интересные по-своему люди, они сейчас все сидят. В какой-то момент они опубликовали список врагов народа, с указанием, что неплохо бы им что-нибудь сделать. В сущности, это такая игра, списки всегда публиковали. Но в этот раз там были персональные данные, с адресами и телефонами.
– Получился такой список прямого действия.
– Да, но, конечно, не все живут там, где прописаны. А к некоторым так просто не прийти домой, у них там охраняют территорию. Я жил, как назло, в том самом месте, где был прописан, и охраняемой территории тоже не было. И в один момент – это был 2009-й или начало 2010-го – несколько молодых людей отправились ко мне в гости. Думаю, вовсе не из самого «Северного братства» Они даже выложили потом какой-то ролик, назывался «Националисты идут в гости к Верховскому». Они снимали, как они идут, естественно, без лиц, как разговаривают со мной через домофон. Странные, совсем молодые ребята, представились антифашистами из Царицыно - и поэтому они просят меня «выйти и поговорить». Мне было понятно сразу, что никакие они не антифашисты. Эти визиты продолжались довольно долго. Как-то я обнаружил их уже у себя под дверью.
– Была такая группа «Северное братство». Интересные по-своему люди, они сейчас все сидят. В какой-то момент они опубликовали список врагов народа, с указанием, что неплохо бы им что-нибудь сделать. В сущности, это такая игра, списки всегда публиковали. Но в этот раз там были персональные данные, с адресами и телефонами.
– Получился такой список прямого действия.
– Да, но, конечно, не все живут там, где прописаны. А к некоторым так просто не прийти домой, у них там охраняют территорию. Я жил, как назло, в том самом месте, где был прописан, и охраняемой территории тоже не было. И в один момент – это был 2009-й или начало 2010-го – несколько молодых людей отправились ко мне в гости. Думаю, вовсе не из самого «Северного братства» Они даже выложили потом какой-то ролик, назывался «Националисты идут в гости к Верховскому». Они снимали, как они идут, естественно, без лиц, как разговаривают со мной через домофон. Странные, совсем молодые ребята, представились антифашистами из Царицыно - и поэтому они просят меня «выйти и поговорить». Мне было понятно сразу, что никакие они не антифашисты. Эти визиты продолжались довольно долго. Как-то я обнаружил их уже у себя под дверью.
– Что вам ваши домашние сказали на это?
– Удовольствия не доставляло, конечно. Было непонятно, как это зло изжить. Но было ясно, что однажды мы с ними встретимся. Потом визиты резко прекратились. У меня есть подозрение, что кто-то из них попал по другому делу, и вся компания залегла на дно. Угрозы были и после. Но просто так угрозы не воспринимаются, мало ли что пишут. Сейчас уже совсем другое время. Последние пару лет радикальные националистические группы живут под таким сильным давлением полиции, что им не до этого совсем.
Противодействие экстремизму
– Мы всегда исходили из того, что национализм – вещь неприятная, но неизбежная. Он есть в современном обществе и, очевидно, еще долго будет. А где есть какое-то течение, там есть и свои радикалы: надо принять это как данность. Вопрос в том, как государство проводит границы между тем, что оно считает плохим, но терпит, и тем, чего оно уже не терпит. Наша позиция остается той, что государство не должно терпеть насилия. Старая добрая норма о том, что современное государство держит монополию на насилие, должна соблюдаться. В остальном возможны варианты… Когда на рубеже нулевых и десятых годов свежесозданные центры противодействия экстремизму переловили и пересажали сотни уличных бойцов, это было очень хорошо. Уровень расистского насилия резко снизился, и продолжает снижаться. Зло не искоренено и вряд ли его удастся уж совсем искоренить, но успехи очевидны. Проблема в том, что если лет шесть-семь назад в качестве противодействия экстремизму к уголовной ответственности привлекали за серьезные насильственные преступления, то сейчас, в основном, – за репост «ВКонтакте». И это неправильно. Это совсем не то, чего мы хотели.
– Мы всегда исходили из того, что национализм – вещь неприятная, но неизбежная. Он есть в современном обществе и, очевидно, еще долго будет. А где есть какое-то течение, там есть и свои радикалы: надо принять это как данность. Вопрос в том, как государство проводит границы между тем, что оно считает плохим, но терпит, и тем, чего оно уже не терпит. Наша позиция остается той, что государство не должно терпеть насилия. Старая добрая норма о том, что современное государство держит монополию на насилие, должна соблюдаться. В остальном возможны варианты… Когда на рубеже нулевых и десятых годов свежесозданные центры противодействия экстремизму переловили и пересажали сотни уличных бойцов, это было очень хорошо. Уровень расистского насилия резко снизился, и продолжает снижаться. Зло не искоренено и вряд ли его удастся уж совсем искоренить, но успехи очевидны. Проблема в том, что если лет шесть-семь назад в качестве противодействия экстремизму к уголовной ответственности привлекали за серьезные насильственные преступления, то сейчас, в основном, – за репост «ВКонтакте». И это неправильно. Это совсем не то, чего мы хотели.
– Как вы считаете, где проходят «границы допустимого»?
– Это тема для вечной полемики. Сейчас эта граница слишком занижена: планка слишком низко висит над головой у граждан. Многие считают, что образцом является американский вариант, когда за высказывание как таковое, если оно не является персональной угрозой кому-то лично, вообще нельзя привлечь к уголовной ответственности. В Европе это не так, конечно, устроено. А у нас – совсем не так. И да, наша система должна быть изменена. Потому что она породила ненормальную ситуацию.
– За то время, что вы наблюдаете за этими процессами, уменьшилось ли количество преступлений на национальной почве?
– Да, конечно. Пик пришелся где-то на 2008-2009 годы, с тех пор статистика только снижалась. Я думаю, что сейчас количество этих преступлений раз в 7-10 ниже.
– Вы видите в этом свою заслугу?
– Я не знаю… Наверное, какая-то заслуга есть: мы много раз указывали, что есть такая угроза и что именно можно сделать, чтобы ее уменьшить. Насколько именно эти указания были приняты к сведению? Я совершенно не думаю, что центры «Э» создавались из-за того, что мы говорили, что должна быть специализация в полиции. Да, мы это говорили, но вряд ли кто-то прочел рекомендации центра «Сова» и сказал: «Ой, да, конечно же!» Были явно какие-то другие причины. Но тем не менее, где-то как-то эти рекомендации влияли. Сейчас это влияние заметно уменьшилось из-за того, что власти сторонятся независимых организаций.
- Я являюсь членом президентского Совета по правам человека. И часто думаю, насколько этот Совет влияет на что-нибудь? Известны случаи, когда в чьей-то личной судьбе удалось повлиять, это понятно. А на политику в целом? Что-то меняется вроде бы в соответствии с рекомендациями совета, но по этой ли причине? Мы никогда знать не можем. В прошлом году были бурные дебаты вокруг пакета Яровой. Совет рекомендовал, что именно надо сделать с этим злополучным пакетом. Автором значительной части этих рекомендаций я и был. Какие-то из них были выполнены, и что-то из пакета выпало. Но потому ли оно выпало, что это советовал Совет? Никогда непонятно. К сожалению, есть некая инерция у государственной машины, и она ведет куда-то совсем не туда.
– Инерция, заданная в какие годы?
– Бог его знает. Она не задана в какой-то конкретный момент. Но вот, скажем, когда началась вся украинская эпопея, это был значительный поворотный момент, когда государственные чиновники и депутаты в каком-то смысле мобилизовались и должны были начать вносить вклад в победу над врагом, так скажем. Потому что это была ситуация, которая понималась как война. Не с Украиной, а с Западом в целом, который как бы руками Украины на нас напал. Я не думаю, что им в администрации расписывали, кто куда должен бежать и что делать. Но тем не менее каждый считал своим долгом как-то отметиться в борьбе. А если каждый хоть немножко отметится, то понапринимают кучу всяких законов, что мы и видели за эти годы. Есть вещи, которые, с точки зрения сохранения стабильности политического режима, не было никакой необходимости принимать. А тем не менее они случились.
– То есть вы считаете, что некие хаотичные законы были приняты только потому, что чиновники спешили отметиться?
– Да, и с этим сложно бороться. Когда человек обосновывает какие-то репрессивные меры патриотическими соображениями, в тех кругах ему трудно возразить. Он же вроде правильные слова говорит. Пакет Яровой — прекрасный образец такого рода деятельности. Совсем безумные элементы типа лишения гражданства оттуда выкинули, потому что это буквально противоречило Конституции. Но многие другие проскочили.
Проверка с целью
Теоретически решение о включении организации в реестр иностранных агентов можно оспорить в суде. Это пока никому не удавалось. Можно оспорить и штраф размером в 300 тысяч рублей, который назначается за то, что организация не включила себя в реестр сама. Возможно, центру «Сова» это удастся легче других: решение по поводу штрафа судья Басманного суда приняла в отсутствие ответчика, который все это время ждал за дверью.
– Расскажите, как технически происходит сама проверка. Кто приходит?
– Никто не приходит, приходит – письмо! Там было написано, что проверка проводится как раз с целью установить, не выполняем ли мы функцию иностранного агента. И было сказано, что соответствующая информация была получена Минюстом из какого-то государственного органа. В ответном письме я написал, что хотелось бы знать, что это за орган и в чем были сведения о нашей деятельности? В чем деятельность? На что получили отказ: это информация для внутреннего употребления и никто нам не скажет, кто на нас пожаловался. Ну ладно. А проверка выглядит так: присылают запрос, список документов, который они хотят получить. Причем сотрудники Минюста как-то очень лениво к этому отнеслись, они представили некий список документов, мы их собрали. А когда принесли, то сидящая там девушка очень удивилась, почему так мало копий. Она сказала: «Ой, да, я же забыла!» – и нам прислали длинный список того, чего от нас хотят еще. Пачка была гораздо толще.
Теоретически решение о включении организации в реестр иностранных агентов можно оспорить в суде. Это пока никому не удавалось. Можно оспорить и штраф размером в 300 тысяч рублей, который назначается за то, что организация не включила себя в реестр сама. Возможно, центру «Сова» это удастся легче других: решение по поводу штрафа судья Басманного суда приняла в отсутствие ответчика, который все это время ждал за дверью.
– Расскажите, как технически происходит сама проверка. Кто приходит?
– Никто не приходит, приходит – письмо! Там было написано, что проверка проводится как раз с целью установить, не выполняем ли мы функцию иностранного агента. И было сказано, что соответствующая информация была получена Минюстом из какого-то государственного органа. В ответном письме я написал, что хотелось бы знать, что это за орган и в чем были сведения о нашей деятельности? В чем деятельность? На что получили отказ: это информация для внутреннего употребления и никто нам не скажет, кто на нас пожаловался. Ну ладно. А проверка выглядит так: присылают запрос, список документов, который они хотят получить. Причем сотрудники Минюста как-то очень лениво к этому отнеслись, они представили некий список документов, мы их собрали. А когда принесли, то сидящая там девушка очень удивилась, почему так мало копий. Она сказала: «Ой, да, я же забыла!» – и нам прислали длинный список того, чего от нас хотят еще. Пачка была гораздо толще.
– И чего от вас хотели?
– В принципе, они хотят очевидные вещи. Финансовые документы, договоры с партнерами. Протоколы собраний, правлений, формальные бумаги. В принципе, в процессе этой проверки они могли найти какие-то другие нарушения, но никаких нарушений не нашлось. И то, что мы, с их точки зрения, занимаемся политической деятельностью, это ведь не нарушение, это свойство. У нас есть такое свойство, мы должны быть записаны в этот реестр. С точки зрения Минюста, нарушение – это то, что мы сами в него не записались. Не осознав в свое время.
– Вы предполагали, что так может случиться?
– Я, конечно, знал, что реестр существует, но я много раз говорил до этого, что мы не занимаемся политической деятельностью ни в каком, как мне кажется, разумном смысле этого слова. И поэтому записываться сами не будем. Да, у нас есть иностранное финансирование. Бог даст, и дальше будет. Отказываться от него мы не собираемся, но насчет политической деятельности, боюсь, мы во мнениях не сошлись. Бывает.
– Я, конечно, знал, что реестр существует, но я много раз говорил до этого, что мы не занимаемся политической деятельностью ни в каком, как мне кажется, разумном смысле этого слова.

– Какую часть вашей работы вы сами считаете политической?
– А мы вообще не считаем, что мы занимаемся политической деятельностью. Но, конечно, если почитать нынешнее определение в законе, то все что хочешь является политической деятельностью. Любая публичная оценка деятельности государственных органов должна считаться политической деятельностью, что нам и написали в акте проверки: мы давали «публичную оценку деятельности государственных органов». Так и есть. Разумеется. Но мне кажется, что закон здесь применен, как бы это сказать помягче, с излишним буквализмом. Потому что если это так, тогда решительно все организации занимаются политической деятельностью. Невозможно не давать оценку никаким органам, если ты хоть на какую-то тему публично высказываешься. Если организация спасает бездомных собачек, то рано или поздно она даст оценку деятельности муниципальных властей в сфере обустройства бездомных собачек. Даже если положительную оценку, без разницы, это окажется политической деятельностью. То есть если это буквально понимать, то это абсурд. Значит, не надо понимать буквально? Мы считаем, что должен соблюдаться принцип пропорциональности любой санкции (а включение в такой реестр – это санкция), и тут он нарушен. Как именно надо понимать норму закона, наверное, должен объяснить Верховный суд. Или Конституционный. Но разъяснения нет. Поэтому на сегодняшний день все организации, которые попадали в злополучный реестр и обжаловали это в суде, проиграли. Дела понемногу подтягиваются в Европейский суд по правам человека, но это дело медленное. Было бы лучше, чтобы не Европейский суд принимал решение о том, как нам обустроить Россию, а Верховный суд взялся бы за ум и разъяснил. Еще лучше, конечно, чтоб законодатель взялся за ум и исправил. На это труднее рассчитывать.
– А мы вообще не считаем, что мы занимаемся политической деятельностью. Но, конечно, если почитать нынешнее определение в законе, то все что хочешь является политической деятельностью. Любая публичная оценка деятельности государственных органов должна считаться политической деятельностью, что нам и написали в акте проверки: мы давали «публичную оценку деятельности государственных органов». Так и есть. Разумеется. Но мне кажется, что закон здесь применен, как бы это сказать помягче, с излишним буквализмом. Потому что если это так, тогда решительно все организации занимаются политической деятельностью. Невозможно не давать оценку никаким органам, если ты хоть на какую-то тему публично высказываешься. Если организация спасает бездомных собачек, то рано или поздно она даст оценку деятельности муниципальных властей в сфере обустройства бездомных собачек. Даже если положительную оценку, без разницы, это окажется политической деятельностью. То есть если это буквально понимать, то это абсурд. Значит, не надо понимать буквально? Мы считаем, что должен соблюдаться принцип пропорциональности любой санкции (а включение в такой реестр – это санкция), и тут он нарушен. Как именно надо понимать норму закона, наверное, должен объяснить Верховный суд. Или Конституционный. Но разъяснения нет. Поэтому на сегодняшний день все организации, которые попадали в злополучный реестр и обжаловали это в суде, проиграли. Дела понемногу подтягиваются в Европейский суд по правам человека, но это дело медленное. Было бы лучше, чтобы не Европейский суд принимал решение о том, как нам обустроить Россию, а Верховный суд взялся бы за ум и разъяснил. Еще лучше, конечно, чтоб законодатель взялся за ум и исправил. На это труднее рассчитывать.
Отношения с властью
– Если от создания центра считать, у нас вообще никаких отношений с властью не было. Была создана очень маленькая организация, которая занималась каким-то мониторингом. Власти могли смело вообще нас не замечать. В 2008-м или 2009-м возник некий интерес, я так подозреваю, к нашей информации об ультраправых организациях, и в результате мы стали получать тогда президентские гранты. Тогда это было еще не очень распространено среди независимых организаций. Думаю, так получилось потому, что властям эта информация была нужна в качестве дополнения к их собственным источникам: спецслужбам, еще кому-то. И мы всегда считали, что это правильно. Нормальное сотрудничество. Оно не было таким сотрудничеством в смысле прямого обсуждения плана, нам никто не давал заданий. Но ясно было, что мы рассматриваемся как полезная организация.
– Казалось бы, все вошло в какое-то устойчивое русло.
– Если от создания центра считать, у нас вообще никаких отношений с властью не было. Была создана очень маленькая организация, которая занималась каким-то мониторингом. Власти могли смело вообще нас не замечать. В 2008-м или 2009-м возник некий интерес, я так подозреваю, к нашей информации об ультраправых организациях, и в результате мы стали получать тогда президентские гранты. Тогда это было еще не очень распространено среди независимых организаций. Думаю, так получилось потому, что властям эта информация была нужна в качестве дополнения к их собственным источникам: спецслужбам, еще кому-то. И мы всегда считали, что это правильно. Нормальное сотрудничество. Оно не было таким сотрудничеством в смысле прямого обсуждения плана, нам никто не давал заданий. Но ясно было, что мы рассматриваемся как полезная организация.
– Казалось бы, все вошло в какое-то устойчивое русло.
– Да, все вошло, но потом оно из него вышло. Подозреваю, что в президентской администрации, которая всегда и была главным интересантом в этом деле, после смены Суркова на Володина заметно угас интерес к альтернативной информации. Мы еще получали президентские гранты в рамках общей поддержки правозащитных организаций, но не всегда. Нормальный как раз процесс. Они поддерживали разные темы, и тему свободы совести, и тему этнической ксенофобии. В этом не было уже видимого какого-то государственного интереса в результатах нашей работы, это была поддержка некоммерческих организаций в широком смысле. Последние несколько конкурсов мы ничего не получили, сейчас у нас нет этих денег, и как это будет в 2017 году, я не знаю. Само по себе это плохо. Во-первых, потому что денег не хватает. А во-вторых, потому что это было таким… как сказать… признаком того, что у нас есть какая-то санкция сверху.
– Придавало вам легитимность?
– В глазах региональных людей. В регионах люди более нервные. И то, что мероприятие организуется «в рамках президентского гранта», облегчало работу. Со статусом «иноагента», на самом деле, главная проблема – кроме возможных штрафов – это то, что у нас будут проблемы с мероприятиями в регионах. В Москве все-таки можно быть самому по себе. В Москве с этим проще, хотя площадок для диалога вообще стало намного меньше в последнее время. Например, было такое прекрасное место – Независимый пресс-центр, где годами проводили пресс-конференции некоммерческие организации. Но вот он закрылся два года назад. Просто они уже устали бороться за свое существование: с деньгами было плохо, в конце концов, они махнули рукой и закрылись. При этом, конечно, то, что государство сочинило и применило еще и закон о нежелательных организациях, нам лично сильно повредило. Потому что фонд Сороса был для нас крупным донором, и стабильным причем. Без этих денег жить стало сложнее. В прошлом году мы очень почувствовали эту разницу.
– Вы пытались искать российские деньги?
– Я не знаю даже, как это пытаться. Нет никаких фондов, которые финансируют что-то в этом роде. Просто нет
– Я не знаю даже, как это пытаться. Нет никаких фондов, которые финансируют что-то в этом роде. Просто нет
- Можно, наверное, с кем-то лично договориться в приватном порядке, но я не знаю, как это сделать. Вообще, как мне кажется, желающих финансировать такую деятельность, поскольку государство готово ее рассматривать как политическую, найдется немного. Потому что они подставляются. Из российских денег сейчас у нас есть небольшая поддержка РЕК (Российский еврейский конгресс - прим. Лес.Медиа).
Государственные интересы
– Наш центр только-только недавно попал в этот список иностранных агентов. Никакого клейма на нас только что недавно не было.
– Вы ощущаете это как клеймо?
– Ну, эмоционально нет, я это так не воспринимаю, но в глазах чиновников, я думаю, да, это клеймо. Так вот его не было недавно. Но контактов заметно меньше за последние пару лет, чем за предыдущие пару лет. Как-то так само получается. Сейчас, наверное, будет еще труднее. И я думаю, что это не связано с какими-то инструкциями, а связано с тем, что чиновники опасаются с независимыми организациями связываться, потому что, мало ли, завтра это может обернуться какими-то политическими обвинениями где-то там внутри аппарата – а кому это надо.
– Наш центр только-только недавно попал в этот список иностранных агентов. Никакого клейма на нас только что недавно не было.
– Вы ощущаете это как клеймо?
– Ну, эмоционально нет, я это так не воспринимаю, но в глазах чиновников, я думаю, да, это клеймо. Так вот его не было недавно. Но контактов заметно меньше за последние пару лет, чем за предыдущие пару лет. Как-то так само получается. Сейчас, наверное, будет еще труднее. И я думаю, что это не связано с какими-то инструкциями, а связано с тем, что чиновники опасаются с независимыми организациями связываться, потому что, мало ли, завтра это может обернуться какими-то политическими обвинениями где-то там внутри аппарата – а кому это надо.
– А что тем временем происходит с националистами?
– Интересный момент. Движение настолько развалилось, что сейчас практически ничего крупного не осталось. Так, как оно было устроено несколько лет назад, все разрушено. И на этом месте руины. Образуются какие-то новые группы маленькие, они бегают туда-сюда, очень странное зрелище.
– Вы так говорите, как будто вам жалко.
– Просто такого никогда не было. Такой степени разрухи в националистическом движении, как сейчас.
– Это что, плохо?
– Ни хорошо, ни плохо. Они никуда не денутся, перегруппируются. Просто действительно у них был внутренний кризис, а еще государство на них насело – и движение развалилось. Свято место пусто не бывает – заполнится. Пока мы видим маневры таких странных маленьких группок.
– Как вы их наблюдаете?
– А это несложно. Во-первых, они на улице показываются. Во-вторых, они же все пишут, у них свои сайты, аккаунты. Есть, конечно, какая-то тайная жизнь всегда. Если движение выберется из этого состояния – рано или поздно выберется, будет какой-то подъем национализма, то это будут новые люди.
– Более агрессивные?
– Совсем не понимаю. Сейчас оно продолжает разваливаться, процесс развала не закончился. И соответственно, рано говорить, каким оно будет, когда процесс пойдет в другую сторону.

– Непонятным остается, почему, если фактически государство действует с вами заодно.
– Что ж оно к нам пристало?
– Да.
Смеется.
– Ну, оно не во всем действует с нами заодно, мы его довольно много критикуем.
– Но у вас есть общая забота.
- Я не знаю, как это работает. Почему это произошло именно сейчас, а не год назад. Связано ли это с каким-то событием. И люди, которые вообще это решали, принимали ли они во внимание то, что, как вы говорите, у нас общие интересы с государством?
– Да, да. Но тем не менее. Я вообще не думаю, что все должно иметь рациональную причину. Государство – это абстракция. А есть конкретные люди, ведомства. Каждый живет своей жизнью. Может быть не связано одно с другим. Я понимаю, что решение о внесении нас в этот злополучный реестр принимал изначально не Минюст.
– А кто?
– Ну не знаю. Ну кто-то.
– Кто-то конкретный?
– Я не знаю, от кого кому звонят, не знаю, как это работает. Почему это произошло именно сейчас, а не год назад или не через год. Связано ли это с каким-то событием, чем-то конкретным. И люди, которые вообще это решали, принимали ли они во внимание то, что, как вы говорите, у нас общие интересы с государством? С государством в широком смысле, может, у нас есть общие интересы, а с этим человеком – нет. Я же не знаю, кто он такой, в чем его интересы, и они могут быть совсем другие. К сожалению, непрозрачность этой системы – большой недостаток.
– А кто?
– Ну не знаю. Ну кто-то.
– Кто-то конкретный?
– Я не знаю, от кого кому звонят, не знаю, как это работает. Почему это произошло именно сейчас, а не год назад или не через год. Связано ли это с каким-то событием, чем-то конкретным. И люди, которые вообще это решали, принимали ли они во внимание то, что, как вы говорите, у нас общие интересы с государством? С государством в широком смысле, может, у нас есть общие интересы, а с этим человеком – нет. Я же не знаю, кто он такой, в чем его интересы, и они могут быть совсем другие. К сожалению, непрозрачность этой системы – большой недостаток.

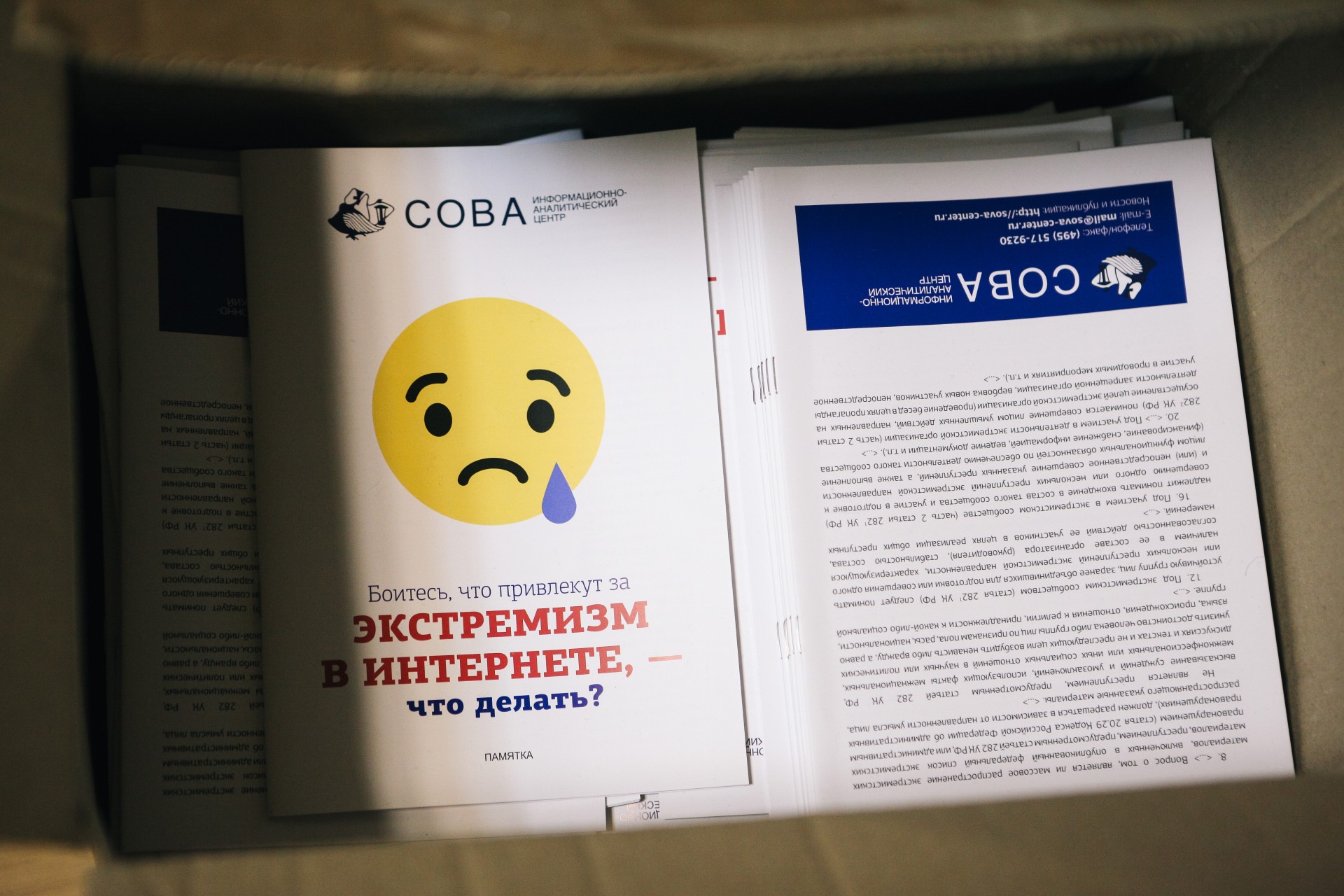






Комментарии:
Вы должны Войти или Зарегистрироваться чтобы оставлять комментарии...